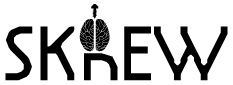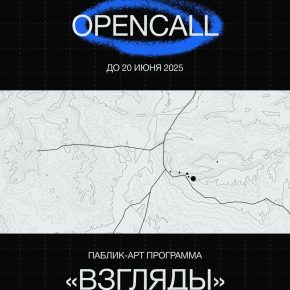Как в Боровске прошла выставка-лаборатория о нечеловеческих актантах в соавторстве с окружающим миром.
Человек плюс остров, комар, свет
Что, если в роли привычного «плюс один» на мероприятии вместо человека выступит, скажем, остров? Или комар? Или свет? Или структура, которую и не увидишь толком?
Выставка-лаборатория «+1 нечеловеческий актант?» превращает такую фантазию в художественную практику. Здесь актант — не просто объект наблюдения, а полноценный участник: он вовлечен в производство смысла наравне с человеком.
Сам термин «нечеловеческий актант» пришел из акторно-сетевой теории Бруно Латура. Но на выставке он работает не как сухая категория, а как отправная точка для интуитивного диалога с тем, что обычно молчит: с растением, пейзажем, алгоритмом, пылью, ветром. Здесь художники не иллюстрируют теорию, а пробуют жить и творить вместе с нечеловеческим.
Живое пространство
Само пространство Боровского центра — дом, сад, овраг, болото, сарай — играет роль не фона, а полноценного медиатора. Оно диктует свои условия: влажные, световые, с запахами травы, с комарами и капелью, с тенями от деревьев.
Произведения тут не соревнуются между собой, а переплетаются, как звуки в лесу или листья в реке. Формы разные: видео, коллажи, звук, скульптура, VR, но интонация у всех одна — на уровне соприсутствия.

Художники и нечеловеческие соавторы
Выставка открылась звуковым сетом дуэта Still secret guest. Их живой саунд — вибрации, ритмы, гулы — работал как аудиотело: неуловимое, обволакивающее, телесное. Музыка не столько звучала, сколько дышала, создавая эффект, будто ты внутри другой формы жизни.
Многие работы на выставке исследуют пористость границ между телом и средой. В инсталляции Шайены — шесть сетчатых полотен, свисающих в пространстве, — тело мыслится как проницаемая система. Свет, ветер, пыльца и даже случайное крыло насекомого вплетаются в работу. Надписи на тканях, от эмбриологических терминов до личных фрагментов, создают образ живой мембраны, где художник не единственный автор.
Скульптура Василисы Краснояровой «В ожидании» — словно фигура в процессе растворения. Здесь слияние превращается в тревогу, объятие — в утрату. Стартовая точка, «Поцелуй» Климта, переосмыслена: теперь это не золотое слияние, а дрожащая форма между телом и саваном.
Коллажи Олега Семеновых из проекта «Письма к Острову» работают с реальным заброшенным островом в Челябинске как с соавтором. В коллажах — следы перформансов, фрагменты природных наблюдений, скриншоты Instagram-страницы самого Острова доктора Швейка. Особенно сильный образ — выцветший крест на листе бумаги: след света, соавторский жест времени и погоды.

В инсталляции Ирины Гулякиной «Святой картофель» тема уходит в сторону травмы и выживания. Сажать картошку, даже после катастрофы, — как акт веры в землю. Свет, железо, клубни становятся одновременно знаком памяти и жестом упрямой жизни.
Муха — центральная фигура в видео «Похороны мух» (Стерлягова, Белоусова, Демкина). Ритуал, придуманный для самого незаметного существа, превращается в акт уважения и фиксацию исчезновения.
В работе Насти Марковской мушка-дрозофила становится героем поэмы. Сквозь научный и бытовой текст проступает портрет «иного», с которым мы живем рядом, но почти не замечаем.
Аудиоинсталляция Анны Тараровой «Боровская восьмерка» — реакция на многослойный образ самого города. Здесь соединяются купеческое прошлое, утопии Циолковского и муралы Овчинникова. Актант — не природа, а идеология, система взглядов, способная на подавление. Свет и тьма здесь — не метафоры, а внутренние состояния.
Ксения Кудасова в проекте «Цифровые Свидетели» переносит вопрос соавторства в виртуальную среду. Из акварелей рождаются безликиe сущности, которые населяют цифровую галерею. Это не просто изображения, а цифровые духи — носители сетевой памяти и алгоритмического взгляда.
Инсталляция «Дышащие руины глядя в небо» (Гулякина и Демина) соединяет камни с разрушенного завода и световое табло. Руины здесь живут своей жизнью: на них растет трава, селятся животные. Камень становится дыханием, свет — его видимой пульсацией.

Владимир Архипов помещает техноизображение «Трое на подъеме» в позолоченную раму на железном заборе как академическую живопись. Но вместо холста — детали компьютера. Эта работа соединяет музейный пафос с улицей, классику — с цифровым хламом.
В видео Ирины Гулякиной «Исправление работы…» художница возвращается к своей прежней работе про историю и утопию. Тогда был ироничный тон, теперь иронии уже недостаточно. Появляется жест усилия: несовместимость не отменяется, но принимается как рабочее условие. Это философия коинсидентологии — как удержать вместе то, что не сочетается.
Вещи, которые помнят
Некоторые работы говорят о вещах как о существах с памятью и телесностью. Они могут быть как герои детских игр, так и духи времени.
В видео «Один дома» Олега Семеновых кресло-качалка становится единственным «живым» элементом в пустой комнате. Оно движется само или не само, создавая ощущение тревожной анимации. Кто остался дома — человек, вещь, след?
Ксения Куприна устраивает чаепитие для трех кукол: змея, орла и быка. Игрушки, сделанные вручную, впитали культурные пласты — от мифов до маркетинга. И теперь «пьют чай» как персонажи, у которых есть память и взгляд.
Скульптуры Анны Тараровой «Дети компоста» — существа, как будто выросшие из грибов и влажного мусора. Это не дети и не растения, но что-то среднее. Их формы зыбкие, они кажутся не рожденными до конца. Но в них уже есть телесность: текстура, вкус, вес.
Светлана Демина выставила живопись «Нечеловеческий актант» прямо на воздухе, под сеткой. Картина взаимодействует с дождем, ветром, листьями. Стихия становится соавтором. Холст здесь — не носитель изображения, а участник процесса, на который действует время.
Выставка как лаборатория
Проект включал и лабораторную часть: встречи, обсуждения, презентации, где художники и кураторы вместе искали язык взаимодействия с нечеловеческим.
Видео с этих встреч — в открытом доступе. Они продолжают «работать», расширяя границы самой выставки.

Что не сработало и что важно
При всей цельности кураторской задумки выставка местами может показаться «внутренней» — требующей от зрителя определенного контекста: знания языка постгуманизма, интереса к экологической этике. Особенно это чувствуется в локальном контексте, где доступ к современному искусству может быть ограничен.
Помогает сайт проекта — с описаниями всех работ, фотографиями, контекстами. Хотя и здесь есть нюанс: восприятие часто зависит от рассказа сотрудника Центра при посещении. Это обогащает, но не всегда оставляет зрителю пространство для самостоятельного маршрута.
Иногда остается вопрос: насколько «нечеловеческий актант» действительно становится соавтором, а где остается просто образом или метафорой? И это нормально. Ведь сама выставка, по сути, не про ответы, а про пробование языка. Где-то он звучит убедительно, где-то шепчет, где-то спотыкается. Но все это — часть живого, исследовательского жеста.
Зачем все это
«+1 не человеческий актант?» — это не просто выставка, а способ посмотреть по-другому. Не сверху, не с позиции контроля, а изнутри: через совместное пребывание. Здесь человек не центр. Здесь человек — один из.
Текст: Наталья Яковлева
Боровский центр современного искусства, 11–24 мая 2025 г.
Кураторы: Евгения Стерлягова, Ирина Гулякина
Заглавное изображение: Василиса Красноярова. «В ожидании»
Фото: Анастасия Захарова
Tg-канал проекта: https://t.me/inhuman_actor
Подписывайтесь на Skrew.ru в Telegram.